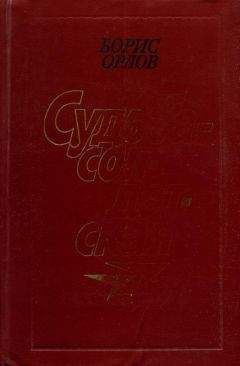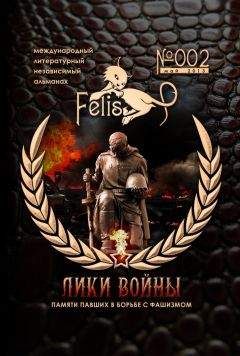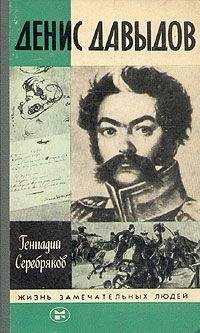— Вот здесь убили партизаны полицаев.
Первое, что подумал Фасбиндер, — повернуть обратно. Ярко вспыхнул в памяти эпизод, когда на него, с Зоммером еще, напали партизаны. Но барон не повернул. Чтобы не подумали, будто он трус, поехал дальше. Когда из-за взлобка показалась деревушка с лесом за нею, остановил коня. Попросил у офицера бинокль. Приставив его к глазам, оглядел впереди лежащую местность, кромку леса, подозрительно всматривался в избы и вдруг резко оторвал от глаз бинокль. Оторвал и тут же приставил вновь. В окулярах у дальней избы была ясно видна девушка, стоявшая с мужчиной в заячьем треухе. На девушке был платок, фуфайка, стеганые брюки и сапоги. И странно, барону показалось, что эту девушку он где-то видел. Фасбиндер тщательно всматривался в ее лицо, в глаза… наконец с трудом узнал в ней Морозову Валю. Руки эсэсовца мелко задрожали. В нем заговорила алчная жажда мести. Но расстояние до избы, возле которой стояла девушка, было все-таки большое, поэтому можно было и ошибиться. И гауптштурмфюрер, уже узнав Валю, еще продолжал в нее всматриваться. Ему и верилось и не, верилось, что это она. И только когда из дома вышла пожилая женщина и девушка повернула к лесу лицо, показав Фасбиндеру косу, он до конца уверился. «Зи!»[22] — выдохнул, по-звериному рыкнув, эсэсовец и оторвал от глаз бинокль. Еще не приняв решения, он проговорил, ни к кому не обращаясь, захлебываясь от восторга:
— Боже! Вот это подарок!.. «Славянское очарование»… Нет, меня ведет провидение! — и опять приставил бинокль к глазам. Думал: «Если сейчас не возьмем, уйдет в лес», — потому что догадался: у избы уже собрались уходить, но кого-то еще ждали.
Гитлеровцев там заметили. Девушка, мужчина и пожилая женщина быстро пошли к крыльцу. Оглядывались на взлобок.
Не отрывая от глаз бинокля, барон тянул время. Решался. Опять прощупал избы, опушку леса. Спросил у офицера:
— В этих местах партизаны бывают?
— Какие тут партизаны! — воскликнул офицер, тоже начав беспокойно вглядываться в дома. — По донесениям, они прячутся где-то севернее.
Фасбиндер, жестко посмотрев на солдат, проговорил:
— В дальнем домике важная преступница. Большевичка Морозова. Надо взять живьем. Это… приказ. — И стал объяснять офицеру: — Они там не знают, идут ли вслед за нами войска. Поэтому пусть солдаты спокойно едут вперед, а возле дальнего домика резко свернут к его глухой стене и закроют из него выходы.
Офицер отдал солдатам приказ. Те, пересиливая страх, неторопливо потрусили дальше.
Фасбиндер то и дело оглядывался назад и помахивал воображаемой войсковой колонне рукою. На опушке перед дальней избой заметил белую собаку. Приставив к глазам бинокль, увидел, как в соснах, бросив большой узел с чем-то, остановилась женщина. Она тревожно следила за всадниками.
Когда солдаты у Матрениной избы резко свернули к поскотнице, из окна раздался выстрел. Один из солдат сполз с шарахнувшегося к дороге коня. Женщина на опушке леса побежала в сосны. Фасбиндер нервно передернулся. Думал, что делать дальше. Ломал голову над тем, есть ли еще кто из партизан в деревушке или поблизости, в лесу. В тревоге посмотрел на сосны. «Куда побежала эта баба? Не за партизанами ли?» — резанула Фасбиндера догадка, и он на всякий случай прикинул, сможет ли конь, если понадобится, унести его…
3Раненый Момойкин умирал мучительно, трудно. За трое суток жар иссушил его. Лицо Георгия Николаевича посинело, и на нем, как два розовых яблока, горели ввалившиеся щеки.
Чеботарев подолгу просиживал возле него в землянке для больных и раненых. В легких Георгия Николаевича хрипело, его душил кашель, разламывало голову… Он то впадал в беспамятство, то, приходя в себя, немигающими глазами смотрел в не потемневшие еще жерди потолочного перекрытия.
На четвертые сутки, рано утром, Георгий Николаевич, сухой уже и желтый, как воск, приподнялся на локте и попросил Петра вынести его наружу.
— Умираю я, Петя, — еле слышно проговорил он. — Дай впоследок на белый свет посмотреть.
Чеботарев одел Момойкина и, попросив медсестру помочь, вынес с ней Георгия Николаевича из землянки. Посадил на бревно возле входа.
Георгия Николаевича от слабости мутило, но все-таки подобие улыбки скользнуло по его лицу, когда он смотрел на чистое, безоблачное небо, вслушивался в легкий шум елей… Увидав в дальнем углу поляны пирамидку с пятиконечной звездой, поставленную у продолговатого и широкого холмика, обложенного свежим дерном, Момойкин спросил, что это, и тут же, видно, сам догадался.
— Крест мне не ставь, — услышал Петр. — Бога… нет. Был бы, так уберег и Сашеньку, и жену… Ничем мы перед ним не виноваты, ничем! — А через некоторое время добавил: — И на Захара Лукьяновича не дал бы руку наложить.
Было холодно. И Чеботарев, боясь простудить Момойкина, сказал с теплыми, просящими нотками в голосе:
— Ну, хватит? Холодно.
— Да, хватит… — поддержала его сестра.
Они подняли Георгия Николаевича с бревна и понесли в землянку. Когда укладывали его на нары, он проговорил:
— Смерти я не боюсь. Очистился я и перед людьми, и перед совестью, — и поднял на Петра ввалившиеся, горевшие жаром глаза. — Знать бы вот только, победим ли?..
— Победим! — прошептал Петр и увидел, что глаза Георгия Николаевича слезятся, а посиневшие тонкие, как ниточки, губы вздрагивают.
Чеботареву по-сыновьи жалко стало Момойкина. Глаза его тоже повлажнели. Чтобы не выказать своей слабости, он отвернулся и, стараясь придать голосу строгость, проговорил:
— Поспи… Легче будет… Ничего… поправишься. Рана не такая уж тяжелая, — чтобы подбодрить его, улыбнулся. — Еще поправишься и не одному фашисту голову своротишь.
Когда Георгий Николаевич прикрыл глаза, Петр пошел из землянки. Думал: «Молоком бы тебя парным попоить». Но молока, понимал он, не достать. О каком молоке речь, когда почти все запасы продовольствия остались в прежнем лагере и нечем кормить людей. Даже больным и раненым не могли дать вволю хлеба без суррогата. Голод надвигался на отряды, и негде было взять продуктов: гитлеровцы подчистую ограбили крестьян и по деревням самим нечем стало кормить даже детей.
Чеботарев перестал думать о Момойкине.
С месяц как эти места захватили гитлеровцы, а в леса хлынули целыми деревнями крестьяне. Они создавали свои отряды. Просились и в действующие. Им объясняли, что на всех оружия нет, нечем кормиться будет, трудно станет, наконец, укрыть такое войско от рыскавших карателей. Но люди ничего не хотели понимать, и их брали. Шли такие люди и к лужанам. Отряд Бати за эти дни вырос и стал больше, чем был до наскока гитлеровцев. По рекомендации Бати Чеботарева назначили командиром взвода вооруженных в основном ружьями крестьян. Многие из них никогда не держали в руках винтовки. Как же было сделать в этих условиях из них солдат?
Вот об этом и думал Чеботарев, идя к землянкам своего взвода.
Мужики его ждали. Одетые кто во что горазд, а в общем в крестьянское, теплое, они посмеивались. Подойдя к ним, Петр спросил, о чем это они.
Рябоватый шустрый мужичок, лукаво посмотрев на Чеботарева, ответил:
— А так, исторею смешную про фрицев узнали…
Чеботарев построил взвод и повел на поляну за землянками. Там он до обеда учил их военным хитростям…
Момойкин скончался на следующий день.
Чеботарев похоронил его, как просил он, у братской могилы: с бокового ската сняли дерн, вырыли яму и положили туда тело, прикрыли его сверху старым полупальто хозяина, а потом засыпали вынутой землей и заложили снятым дерном.
После похорон Чеботареву будто перестало чего-то хватать. На дню он раза четыре подходил к тому месту, где был похоронен Момойкин.
Вечером, придя в землянку, Петр лег на нары. От пустого места рядом, где до ранения спал Момойкин, веяло могильным холодом. Чеботарев поднялся. Долго сидел, уставившись в темную сырую стену землянки. Машинально сунул руку в карман брюк и, наткнувшись на записную книжку гитлеровца, смертельно ранившего Момойкина, тер ее кожаные корочки сухими жесткими пальцами. В книжечке лежало письмо от Вали — то, которое он получил еще в первом лагере лужан. Положил Петр туда письмо, чтобы не истиралось. Решив перечитать его, он поднялся и подошел к столу, на котором тускло горела коптилка — плавающий фитиль в блюдечке с маслом. Раскрыл книжечку. На первой странице была приклеена фотография немецкого офицера в форме эсэсовца. Чеботарев вперился в нее, и в чертах гитлеровца почудилось ему что-то знакомое. Петр поднес книжечку почти к самому огню, и вдруг глаза его вспыхнули лютой радостью.
— Так это ты, шкура?! — выдохнул он.
Петр смотрел на лицо гитлеровца и, силясь что-то сказать еще, безмолвно шевелил вздрагивавшими губами, и вспомнил Зоммера, которого душил Закобуня, а спина не переставала ощущать, как больно впиваются в нее… комелечки, как отдаются во всем теле удары сырой, тяжелой хворостины по плечам, по груди…